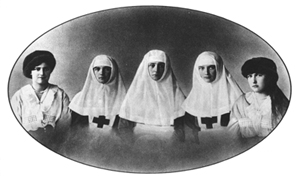|
Василий Немирович-Данченко
Сестра милосердия.
Скверная болгарская осень почти вся была проведена нами в траншеях. День проходил спокойно, пули посвистывали раcсеянно, одиночками... Турецкие батареи молчали. Зато, как только серые тучки меркли, и плачущая, мокрая ночь сменяла слезящий день, перестрелка разгоралась, турки словно хотели выморить нас бессонницей. В тумане красными пятнами мигало пламя, выбрасываемое стальными жерлами неприятельских орудий... Гранаты высоко проносились над нами и разрывались где-то в стороне, — с долгим, плачущим звоном отлетали их осколки далеко-далеко... Иногда турки ходили на приступ. Каждый день убитыми и ранеными выбывало из строя около ста человек.
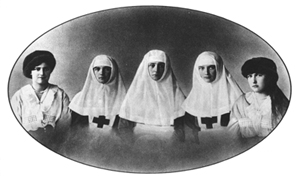
Как-то была холодная, ненастная ночь. Редут точно в тучу ушел, — такая густая мгла лежала кругом на мокрых холмах. Обычная музыка выстрелов началась с сумерек и продолжалась уже часа три. Иду я полюбоваться на доктора. У того сюртук снят и руки — по локоть в крови... Всматриваюсь в сторону при тусклом блеске фонаря, — что-то серое... женская фигура... Что за диво!.. Подошел ближе… Васильева!
— Сестра!.. здравствуйте... Узнаете меня?
Подняла утомленную голову, пристально взглянула на меня грустными, серыми глазами, обрадовалась.
Протянула руку... Холодная рука, такая же худенькая, как и прежде.
— Я уже думала, — не встретимся.
Тот же приветливый, нервный голосок, словно не говоривший, а вздрагивающий.
— Ну, вот... Гора с горою, знаете... Как это вы сюда попали, не ваше место?
— Да вот доктор все жаловался... Рук у него нет... не хватает... Я и приехала... мы тут, в деревне... Завтра наговоримся... Теперь некогда...
И давай перевязывать солдата...
В полночь, по обыкновению, перестрелка разгорелась... — „Алла, Алла!" — послышалось оттуда. Я заглянул на вал: длинная и волнистая линия вспыхивавших и гаснувших огоньков близилась... Другая следовала за нею... Людей не было видно вовсе... Цепи турок шли на редут, еще издали оглушая нас трескотнею и гамом. Выдержанные в огне солдаты наши спокойно ждали команды. Первый залп мы дали в упор, когда табор (полк) подходил шагов на двадцать, на тридцатъ. До тех пор траншея молчала, как мертвая... На этот раз, судя по густоте огоньков, атака обещала быть особенно настойчивой.
Вот и в амбразурах далекого турецкого редута словно раскрылись и опять опустились веки над чьими-то чудовищами, огромными глазами... Взглянуло на нас это красное око, ахнула стальная грудь орудия, и первая граната, шушукая и вздрагивая, впилась в земляной вал... Только стала осыпаться земля отсыревшего бруствера...
— Что это?.. — схватывает меня кто-то за руку.
— Турки идут...
— Господи... Сколько смертей... сколъко смертей!.. Голубчики!.. И все это в бедных... в солдатиков... Болезные мои, хорошие... — шептал женский голосок, нервный, трепетавший, как рыдание, глубоко проникающий в душу...
— Это вы, сестра?.. Сойдите! Нельзя... так в вас попасть могут...
Она меня и не слышала. Снял я ее вниз. Села, схватились руками за голову, да и осталась так... Шепчет молитву только... Слышу я, не за себя, а за нас молится... Молится, едва шевеля губами, но такъ, что сквозь бешеную трескотню атаки каждый звук ее страстной молитвы слышался мне...
— Вот он где ад-то! Истинный ад... — проговорила она, когда безмолвная доселе траншея по команде бросила оглушительный залп прямо в лицо врагам...
Меня эта худенькая, слабая и больная женщина, попавшая в самую кипень боя, интересовала больше, чем самый бой. Очевидно, она за себя не боялась, страдая за других, Каждая капля крови, пролитая здесь, была больна ей... Каждый стон отдавался в ее сердце ...
— Бей их, проклятых... В спину их... — слышались голоса офицеров, подбодрявших солдатъ... — Ишь, побежали, — катайте их, ребята, отбейте охоту соваться к нам.
Озленные турки, отмщая на нас свою неудачу, и днем продолжали бить по каждому, кто только приподнимал голову над валом... Туман расстилало, и им отлично видны были наш бруствер и наш редут позади.
За валом слышились громкие стоны; сквозь трескотню ружейного огня, сквозь говор нашей траншеи слышались.
— Что это такое? Кто это стонет? — обратилась ко мне сестра Васильева, широко раскрыв глаза.
— Турки...
— Какие? Какие турки?—схватила она меня за руку.
— А что вчера на наш редут шли... Их ранили, свои подобрать не успели, Ну, и лежат там в кустах по оврагам.
— Что же с ними будетъ? До коих пор... Да говорите же!
— Будут лежать, пока не умрут.
— Да, ведь, подобрать-то надо? Неужели так! Ведь, они мучатся. Помочь скорее, а то поздно будет...
Я подвел ее к валу.
— Стоит только голову поднять над валом, чтобы турки стрелять начали... Видите?.. Рядом стоявший солдат посадил шапку на штык, и тотчас же несколько пуль просвистело мимо...
— Все-таки... Бог поможет... Братцы? Ужели же им так помирать...
Солдаты мялись... Кому охота на верную смерть!..
— Душа-то ведь есть в вас, голубчики... Православные, жаль ведь их...
— Жаль-то, жаль, сестрица, да и то — как выйдешь?.. Тут смертушка...
— Помогите, милые...
Я начал ей тоже подсказывать все, что говорило мне благоразумие...

Но сестра будто и не слыхала меня. Только под конец проронила:
— Очерствели вы... Я не к вам, я к солдатам... Они скорее поймут...
Один турецкий раненый, как нарочно метался у самого вала. Крики его так и раздавались в ушах. Пробовали его подстрелить солдаты, нельзя... В мертвой точке лежал совсем.
— Коли вы не хотите, я пойду... сама пойду...
И прежде, чем мы успели опомниться, прежде, чемъ успели схватить ее за платье, Васильева была уже за валом. Так и остались в памяти резко обрисовавшийся на свету силуэт ее, голова, закинутая к небесам, рука, творящая кресты. Скрылась... Точно проскользнула в амбразуру, оставленную для орудия.
— Что же это, братцы!.. Ужели ж покинуть?
— Не гоже...
Старый унтер с георгиевскими крестами и медалью за хивинский поход перескочил через бруствер.
Ад поднялся опять... Пули засвистали отовсюду; шипя, впивались в сырую землю вала, сбивали ветви дикой яблони позади траншеи, сыпались сверху, точно это не турецкие пули, а серые тучи, что прятали от нас голубое небо, брызгали горячим свинцовым ливнем на жаждущую тепла и света зелень. Не прошло и нескольких мянут, как санитары с носилками были уже за валом.
Сестра не обращала внимания на смерть, торжествовавшую свистом и злобным жужжанием вокруг нее свою дешевую победу, наклонялась над кустарниками и отыскивала раненых турок. На лице — ни малейшего страха, одинаково бледное, глаза только смотрятъ внимательнее, да грудь дышет нервно...
К чести турок, как только заметили, зачем сошли наши, — опустили ружья, выставили головы над валом и давай следить... Видимо, они были изумлены. Ни одного выстрела. Тишина воцарилась на позицияхъ, и только гранаты пролетали в высоте , да далеко-далеко перестреливались одна с другой какие-то две неугомонные батареи.
Рослый турок, раненый в спину насквозь, как только его внесли на носилках за вал, схватил руку Васильевой, прижал руку к губам, а у самого слезы так и стоят на глазах.
— Ишь, гололобый... Разжалобился! — тронутым тоном обернулся к нему сосед-солдат.
|
|